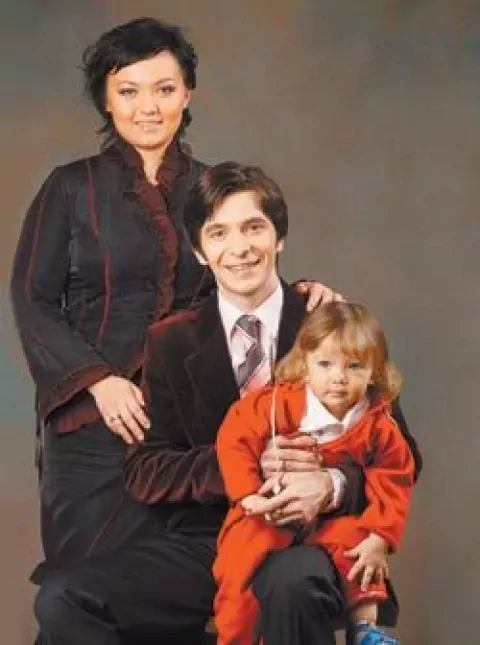Дмитрий Веневитинов и Зинаида Волконская
история любви
- Фамилия
- Веневитинов
- Имя
- Дмитрий
- Дата рождения
- 26.09.1805
- Возраст
- 218 лет
- Страна / Гражданство
- Россия
- Категория
- Любовные истории
Москва готовилась встречать траурный кортеж с телом императора Александра I, скончавшегося в Таганроге. От Серпуховской заставы до самого Кремля расчищали от сугробов дорогу, в витринах появились портреты покойного. На Кузнецком мосту шла торговля принадлежностями для траурного костюма. Можно было купить все - от платья из черного крепа до муаровой похоронной ленты.
Утром 3 февраля золотая колесница, покрытая черным балдахином, въехала в первопрестольную.
По обеим сторонам улиц от самой заставы до кремлевских ворот сплошной цепочкой стояли солдаты, причем, согласно секретному приказу, с заряженными ружьями. По городу усиленно муссировались слухи, будто во время проезда траурного кортежа произойдут выступления недовольных.
Ничего подобного, однако, не случилось. Процессия мирно проследовала через город. Вместе с ней проделали путь и "архивные юноши". Им, служащим Архива коллегии иностранных дел, как и представителям других ведомств, ведено было в мундирах явиться к Серпуховской заставе. Отсюда попарно они со всеми шли за катафалком.
Три дня город прощался с телом. Гроб был установлен в Архангельском соборе, где короновали и отпевали российских самодержцев. Один из "архивных юношей", Веневитинов, стоял неподалеку и потому хорошо видел, как дама в траурном платье, скрытая вуалью, подошла к гробу, поклонилась и положила венок из незабудок. Она показалась Дмитрию прекрасной и таинственной. Трудно было оторвать от нее взор. Она прошла мимо него, и Дмитрий, завороженный, не отрываясь, следил за ней глазами.
- Кто эта дама с незабудками? - вырвалось у него тихо, словно спросил он самого себя.
В ответ услышал от товарища по архиву:
- Княгиня Зинаида Волконская.
Лицо Дмитрия залилось краской. Вспомнил, что Одоевский как-то приглашал его к ней, да и другие "архивные юноши", он знал, регулярно бывали в известном на всю Москву доме, где вот уже более года жила княгиня.
Спустя пару дней Владимир Одоевский - завсегдатай ее вечеров и обедов - привел Дмитрия в дом на углу Тверской и Козицкого переулка.
Обеды Зинаиды Волконской - праздники не столько для желудка, сколько для души - славились на всю Москву, как, впрочем, и весь ее дом - оазис культурной жизни; академией искусств называли его современники. Шедевры, собранные здесь, словно бы продолжали самое хозяйку, отражали ее внутренний мир, полный поэтических стремлений. К ней тянулась вся Москва. И княгиня умела всех оценить и понять, ибо отличалась простотой и добросердечием, что, впрочем, не сделало ее счастливой в собственной жизни.
Выйдя замуж накануне нашествия Бонапарта, она долгое время не получала от мужа известий из действующей армии и решила, что он убит. От переживаний буквально впала в умопомешательство и в припадке отчаяния прокусила себе верхнюю губу. Небольшой шрам остался у нее навсегда. Муж между тем благополучно возвратился с поля брани. Однако последующая жизнь с ним не задалась. Он был вполне comme il faut (фр. - отвечал требованиям приличия), но, как выяснилось, совершенно противоположных ей взглядов, с иными интересами, характером и, если хотите, иным темпераментом. Но даже самой себе она не призналась бы, что вышла замуж за человека, который духовно неинтересен. Жили они чаще всего розно, внешне соблюдая приличия, чтобы не дразнить свет и не давать повода для пересудов. На этом настаивала прежде всего сама княгиня. Но могла ли она найти себе ровню?
Блистая красотой и грацией, ученостью и образованностью, сотканная из гармонии и тонких чувств, Волконская, несомненно, имела все права на пальму первенства среди русских женщин той эпохи. Коронованная вдохновением гениев - своих современников, она осталась жить в их стихах. Пушкин напишет о ней:
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И под задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений...
Ее образ запечатлен в воспоминаниях, в портретах, исполненных с натуры, в звуках старинных клавесинов, в грезах романтического XIX века.
Сердце Дмитрия было полно чувством к княгине, а уста будто сковала печать молчания. Продолжая встречаться в свете, у нее в салоне, он, однако, не решался открыться. Только глаза, вопреки его воле, не могли скрыть того, что творилось в душе "архивного юноши". "Счастье в том, - мечтал он, - чтобы в других очах прочитать следы тех же чувств, подслушать сердце, бьющееся согласно с твоим сердцем".
Поначалу она заметно смущалась под обжигающим его взглядом, тень смятения и тревоги появлялась на ее лице. Возможно, это и останавливало Дмитрия от признания. Разница в возрасте его не смущала. Он даже не задумывался об этом. А она? Ей казалось, что полтора десятка лет, разделяющие их, служат надежным барьером от опасного с его стороны шага.
Веневитинов же начал замечать, что от встречи к встрече у него все больше и больше возникает, если можно так сказать, созвучие ума с княгиней, что они все лучше понимают друг друга. Оставалось лишь мечтать о созвучии чувств. Но в душе он уже знал, что отныне его муза может иметь лишь один облик - облик княгини Зинаиды; что именно она будет его вдохновительницей, единственной, кому он посвятит свой поэтический дар.
Однажды он пригласил княгиню на прогулку в Симонов монастырь.
Еще поутру заехал на Тверскую. Волконская, предупрежденная накануне, тотчас появилась, повергнув его в изумление: она была как никогда хороша и ослепительна.
Темно-коричневое платье, отделанное тесьмой, удачно вписывалось в золотые краски осени и выгодно оттеняло ее каштановые локоны, выбивавшиеся из-под модной шляпки - "гаитской розы" в виде бледно-зеленого атласного чепца с ниспадающими черными страусовыми перьями. А плечи прикрывала огромная кашемировая шаль (на случай, если погода начнет хмуриться и похолодает).
Ее прекрасные синие глаза излучали небесный свет, движения были грациозно-женственны, и вся она казалась какой-то неземной, улыбающейся феей, которая вот-вот улетит. У Дмитрия перехватило дыхание, и он почувствовал, что краснеет то ли от счастья, то ли от испытываемой неловкости: ему впервые довелось быть с княгиней тет-а-тет, а может быть, от мелькнувшей тщеславной мыслишки, что радом с ним сидит самая красивая женщина Москвы.
Погода благоприятствовала поездке. Стояло дивное бабье лето. Напоенный ароматами трав и цветов воздух, не успевший после небывалой в тот год жары утратить свой терпкий настой, бодрил и пьянил. Сердце щемило.
Пока ехали, Дмитрий начал рассказывать о своем замысле написать роман о молодом поэте и философе Владимире Паренском - так будут звать его героя.
Она слушала, наблюдая за ним и невольно проникаясь восхищением. Ее приводил в восторг сам рассказчик, его проникновенный, музыкальный, чуть томный голос, громадные, опущенные длинные ресницы, сияющие умом глаза. В них угадывалась пылкая натура искателя истины, чутко-нежная душа, возлюбившая все прекрасное. Она понимала: этот молодой Адонис, наделенный незаурядным умом и многими талантами, давно уже сделался близким ей по духу; мужская же его стать, делавшая Дмитрия подобием изваянного из мрамора греческого бога, вызывала в ней какое-то неясное чувство. Подчеркнуто не придавая особого значения пылким взглядам, которыми поэт одаривал ее, княгиня все же не могла не отмечать их, но принимала как знак поклонения юноши красивой женщине - не более.
Однако сейчас, в коляске, княгиня женским чутьем поняла, что приближается момент, когда долее не замечать этих пламенных взглядов станет невозможным. Припомнилось, как недавно кто-то в шутку, а может быть и нет, пытался ее предупредить, услужливо сообщив о злорадном шепотке, блуждавшем по московским гостиным, что-де у не первой молодости княгини объявился юный воздыхатель, нечто вроде Андре Шенье, давно в нее влюбленный, которому она оказывает нежную приязнь.
Было ясно, что поведение Веневитинова, его пылкие взгляды не остались не замеченными в свете.
...Кругом простирались луга, засеянные поля, вдали темнел сосновый бор, и за ним на горизонте виднелась колокольня села Коломенского. По ту сторону реки на лугах паслись стада и доносились голоса пастушеских свирелей.
Открывшаяся панорама сельской идиллии захватила восприимчивую к красотам природы Волконскую. И хотя этот северный пейзаж разительно отличался от обожаемого ею южного, итальянского ландшафта, лучезарно-волшебного, душа ее, склонная к романтической мечтательности, с восторгом созерцала открывшийся перед ней живописный вид.
Уловив ее настроение и сам очарованный картиной райских кущ и полей, взволнованный близостью обожаемой женщины, Дмитрий продекламировал:
...Люблю я цвет лазури ясный;
Он часто томностью пленял
Мои задумчивые вежды
И в сердце робкое вливал
Отрадный луч благой надежды...
Это было все равно что признание, и княгиня прекрасно поняла его. Тем более что, произнося эти когда-то сочиненные строки, он смотрел ей в глаза взором, исполненным чистой любви. Не выдержав этого взгляда, она в замешательстве потупилась, а он, счастливый, готов был видеть в этом робкий ответ на его порыв и даже, быть может, обещание большего.
Миновав главные ворота монастыря, коляска остановилась около соборной церкви. Только что отошла обедня, смолк оглашавший окрестности малиновым звоном благовест. На паперти появились одетые в черное богомольцы, неспешно покидавшие храм.
Княгиня, посетовав на то, что опоздали к службе, и искренне об этом сокрушаясь, изъявила желание осмотреть обитель. Веневитинов, выполняя обязанности чичероне, занимал княгиню рассказом о местных достопримечательностях. Оставив позади двухэтажную трапезную, пройдя мимо погребов и кладовых, они вышли на монастырское кладбище, где Волконская обратила внимание на захоронения рода Татищевых, к которому по материнской линии она принадлежала.
Неожиданно Веневитинов признался, что хотел бы здесь, под одной из берез или акаций, когда придет его час, найти вечный покой. Произнес он это достаточно серьезно, с каким-то даже, как ей показалось, отчаянием, за которым нельзя было не угадать чего-то такого, что его угнетало и мешало жить.
Княгиня укорила Дмитрия за мрачное настроение и, взяв под руку, поспешно повела, как ребенка, с кладбища, точно опасаясь, что сию минуту осуществится желание, столь странно прозвучавшее в устах молодого, полного сил красавца. Однако в приступе внезапно охватившей его черной меланхолии усмотрела княгиня еще одно подтверждение блуждающего по гостиным слушка о тайном ее воздыхателе. И мысль, которую она с самого начала поездки гнала от себя, мысль о том, что это подстроенное пылким Адонисом свидание не кончится так просто для них обоих, повергла ее в смущение. Она заторопила с возвращением в Москву.
Послышались раскаты приближающейся грозы. Со стороны Москвы надвигалась черно-лиловая туча. Заметно потемнело, поднялся ветер, тревожно зашумели березы. Надо было успеть вернуться к месту, где оставалась коляска. Едва отъехали, как очередной удар грома, казалось, прошелся прямо над ними. Княгиня вздрогнула, перекрестилась. При новом раскате от страха стиснула кулачки, прижав их один к другому на груди, и невольно прильнула плечом к Дмитрию. Как бы успокаивая, он взял ее за руку. Она не отняла ее. Так ехали некоторое время. Дождь монотонно барабанил по кожаному верху. Дмитрий молчал. И вдруг заговорил о том, что давно покорен ею, испытывает восторг перед ее божественной красотой, преклоняется перед умом, очарован талантами, грацией, голосом.
Слова обжигали, сердце ее трепетало, краска стыдливости - эта ливрея добродетели - залила лицо. Едва слышно она прошептала: "Боже благости, помоги..." Он не дал ей договорить, припав горячим поцелуем к ее губам...
На другой день вечером княгиня приняла Веневитинова с той благородной простотой, которая ему так нравилась в ней. К его удивлению, так же просто, без обиняков она заговорила о том, что есть препятствия, и он знает какие, не допускающие их соединения.
- Общество могущественно, его влияние огромно, оно привносит слишком много горечи в ту любовь, которая им не признана.
Ошеломленный таким поворотом, взволнованный, он не заметил, с каким трудом дались ей эти слова. Убеждая себя, она настаивала:
- Ни вы, ни я - мы не сможем переделать свет.
Он попытался было возразить: мол, надо слушаться своей души, следовать влечению сердца и не думать о пересудах. Но княгиня продолжала:
- Вы молоды, Дмитрий, - она впервые назвала его так. - Время лучший врачеватель. Оно залечит ваши раны, наилучший в мире друг мой. Вам следует уехать, - услышал он по-матерински нежный голос Волконской. - Почему бы вам не перейти на службу в Петербург, к Нессельроде?
- Есть разные лекарства от любви, но нет ни одного надежного, - ответил он словами известного афоризма.
- Хотите, я помогу вам?
Он показал жестом, что ему все равно. Она расценила это как согласие.
- Вот и прекрасно. Я похлопочу, - с облегчением сказала она. - А сейчас... как знак моей дружбы и... залог сострадания, возьмите этот перстень, отрытый в пепле Геркуланума. Пусть он будет вашим талисманом. Храни вас Бог.
Спустя некоторое время родятся строки его знаменитого стихотворения, обращенного к перстню:
Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой...
Волконская энергично принялась устраивать судьбу Дмитрия. По здравом размышлении он и сам решил, что ему лучше всего оставить Москву: вдали от предмета своей любви он скорее излечится от сердечной хвори.
...При въезде в Петербург Веневитинова неожиданно арестовали. Как потом выяснилось, из-за того, что по просьбе Волконской он взял попутчиком некоего Воше, провожавшего княгиню Трубецкую в Сибирь к мужу - государственному преступнику, а теперь возвращавшегося в столицу. Власти не без оснований опасались, что он везет что-либо недозволенное, например, письма декабристов к родным, что запрещалось.
Веневитинова подвергли унизительному обыску, допросу, продержав более суток в сыром, промозглом помещении. Вышел он оттуда простуженный, с кашлем и болью в груди, с настроением, хуже которого и не бывает.
Он начал ходить в присутствие - его определили в Азиатский департамент. Но ни работа, ни светские развлечения не спасали от тоски по Москве, по родным, по княгине. Заглушая душевный надлом, он часто спрашивает в письмах: "Что происходит на вечерах у княгини Зинаиды? Поют ли там, танцуют ли?" Для него отныне надежда - лучшее наслаждение на земле, она разбудила его дремавшую музу. Он пишет несколько стихотворений, посвященных Волконской, в глубине души надеясь, что стихи вызовут ответный пламень в ее груди.
Склонный к рефлексии, анализируя свои чувства и переживания, он приходит к меланхолическому выводу, что для человека поэтического сознания, человека мыслящего счастье невозможно. Тем более в холодном российском климате. Здесь у всех сочинителей одна судьба - терпеть от властей! И напоминает сам себе: Тредиаковский бит кнутом, Новиков посажен в крепость, Княжнин умер от пыток в тайной экспедиции, Радищев покончил с собой, а Батюшков покушался на самоубийство, Сумароков спился, Пушкин был сослан, Полежаев насильно отдан в солдаты. А Рылеев, Бестужев?
Человек - суверенное существо, он стремится к свободной жизнедеятельности, к гармонии между собой и миром. Когда этого нет, когда нравственная основа жизни нарушена, наступает отчаяние, безысходность. Тогда, желая освободиться от раздирающей сердце тоски, мысль бьется в поисках ответа: чем наполнить пустоту души? Как быть дальше? В чем спасение?.. На него находят минуты полнейшего отвращения к жизни. Тревожат мысли о неизбежности трагического финала.
...Наступил март 1827 года. Занялась было весенняя погода. Светило солнце, капель выбивала веселые нотки.
Здоровье Веневитинова между тем не улучшалось, напротив, несколько раз делался жар, врач определял лихорадку, укладывал в постель и пускал кровь. Она оказалась, по замечанию Федора Хомякова, истинно сочинительской, как чернила. Друзья просили его не перетруждать себя: болезненный вид Дмитрия по-прежнему вызывал беспокойство. На их встревоженные вопросы отвечал: "Тоска замучила меня".
Он продолжал жить думами о Волконской - она стала, как он когда-то и предначертал себе, его музой, вдохновительницей, той, кому посвящал свои творения. Любовь поселилась теперь в его стихах, любовь безрадостная, мучительная, которую он тщетно пытался изжить.
Любви волшебство позабыто,
Исчезла радужная мгла,
И то, что раем ты звала,
Передо мной теперь открыто.
Неожиданно ночами вернулись морозы, но днем воздух оставался по-весеннему сырым и промозглым.
7 марта у Ланских, где он жил, состоялся бал с танцами. В одной из дам, как ему показалось, он узнал Волконскую. "Неужто она здесь, в Петербурге?" - но тут же понял, что обознался. Не помня себя, он бросился к выходу, выбежал на крыльцо. Холод объял его. Не замечая стужи, подставил грудь сырому, колючему ветру. В голове вихрем пронеслось: "Зачем она врезалась в мое сердце, живет в памяти?! Зачем отравила все наслаждения жизни? И тот поцелуй, первый и последний, - зачем? Зачем питал надежды? Все пустое! Лучше умереть разом, как Вертер!"
Кто-то заботливо набросил на его плечи шинель. Он обернулся. Рядом стоял Фе дор Хомяков.
На другой день Веневитинов занемог жестокой простудой.
Явился Егор Иванович Раух, доктор из Обуховской больницы. Поставил диагноз: воспалительная горячка. Прописал капли и положительно удостоверил, что пациент скоро поправится.
Болезнь, однако, быстро прогрессировала. С каждым днем состояние Веневитинова делалось все хуже. Друзья не отходили от него, дежурили у постели. На шестой день был назначен консилиум. Собрались светила тогдашней медицины. Заключение врачей повергло всех в ужас: "Больному жить осталось день-два".
8 ночь на 15 марта около больного дежурил Хомяков. В соседней комнате находились близкие друзья.
Мерцала свеча на столике у кровати. Тусклый свет падал на пузырьки и флаконы. Пахло лекарствами, лампадным маслом.
Под утро началась агония. Дмитрий сделал усилие и, стараясь говорить внятно, попросил похоронить его в Симоновом монастыре. Это были последние его слова.
Источник: peoples.ru